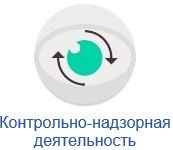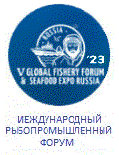– Юрий Александрович, как вы оцениваете начало лососёвой путины? Есть ли проблемы?
– К промышленному лову первыми традиционно приступили рыбаки Усть-Камчатского района. Они добывают преимущественно нерку в Камчатском заливе. В связи с холодной погодой вылов ниже уровня предыдущих лет. На 18 июня вылов нерки составил порядка 900 тонн. В прошлые годы к этой дате данный показатель достигал 2–3 тысяч тонн. Рыба подходит, но её подходы растянуты по времени.
По оценкам науки, процент пропуска нерки в реку Камчатку на нерест достаточно высокий. На 18 июня было пропущено около 220 тысяч экземпляров, или 450 тонн. Это сопоставимо с половиной того объёма, который рыбаки добыли.
На реке Камчатке промышленный лов по-прежнему не ведётся по инициативе рыбацких предприятий. В верховьях реки есть рыболовные участки, на которых ведётся традиционный промысел КМНС. Там обеспечен контроль.
15 июня начался промысел в Карагинском и Олюторском районах. Результаты пока не значительные. Промысел там должен войти в активную фазу в первые недели июля.
По данным камчатского филиала ВНИРО, в этом году отмечается высокий скат мальков лососей в Охотское море. Это подтверждает эффективность работы рыбоохраны и обоснованность ограничений промысла для пропуска производителей на нерестилища.
– Сколько государственных инспекторов рыбоохраны трудится в вашем управлении? Есть ли проблема нехватки кадров?
– Штатная численность инспекторского состава в нашем управлении – порядка 130 человек. Около 5 процентов должностей вакантно. На днях завершили приём документов на очередной конкурс. Это живой процесс. Он идёт постоянно.
Мы сегодня готовы предложить достойные условия труда. Благодаря усилиям Министерства сельского хозяйства России и Федерального агентства по рыболовству за последние два года значительно выросло денежное содержание государственных инспекторов, улучшилось материально-техническое обеспечение. Проблема в том, что требования к кандидатам на государственную службу высоки. Нелегко найти на Камчатке специалистов, которые отвечали бы этим требованиям, особенно в отдалённых сёлах и посёлках. Поэтому многие государственные учреждения в нашем крае испытывают нехватку кадров.
– Где сейчас фиксируется наибольшее количество нарушений – на западном побережье или восточном?
– Нарушения фиксируются везде, где работают наши инспекторы, в том числе на водоёмах, приближенных к краевому центру, – это бассейн реки Налычева, Авача, Паратунка. Здесь традиционно с появлением лососей появляются и браконьеры.
– Во время лососёвой путины этого года количество ваших постов, а также их расположение останутся прежними?
– Количество постов из года в год стараемся не уменьшать. Если выявляем пути обхода нашего поста, то меняем его дислокацию. Например, на трассе из Усть-Большерецкого района пост изначально находился за посёлком Дальним. Когда браконьеры стали искать пути объезда, мы его перенесли ближе к посёлку Сокочу, чтобы расширить территорию контроля. Он стал работать более эффективно, хотя его и сегодня пытаются обойти лесными тропами.
Хорошо себя показали посты на реках Аваче, Паратунке, на водоёмах Усть-Камчатского района. В Корякии на протяжении многих лет выставляем посты на основных реках, рядом с которыми находятся населённые пункты. Это Апука, Пахача, Вывенка и другие.
– Как в деле рыбоохраны строится взаимодействие с другими государственными структурами, с бизнесом?
– Мы всегда плотно работали с коллегами из пограничного управления и полиции. Этот год не станет исключением.
Что касается предприятий, являющихся пользователями рыболовных участков, большинство из них бережливо относятся к запасам рек, на которых ведут промысел. Они понимают, что от этого зависит их будущее. Есть немало примеров, когда компании сами добровольно решали приостановить промысел, чтобы пропустить больше рыбы на нерестилища. Никто из крупных известных предприятий не занимается скупкой незаконного сырца, как это было в 1990-х или начале нулевых. В противном случае реки были бы уже давно пусты.
– Однако и сегодня встречаются примеры хищнического отношения к водным и рыбным ресурсам. Например, на реке Озерной крупная компания вела дноуглубительные работы и пыталась изменить русло реки, чтобы повысить свои уловы.
– Расчистка русла рек от наносного грунта и мусора – это обычная хозяйственная деятельность, которую согласовывает рыбохозяйственная наука. Если этого не делать, то река замелеет и не будет возможности вести промысел. Если эти работы проводятся без необходимых согласований, то скрыть такие факты невозможно. Стоит подобной информации появиться в соцсетях либо поступить из других источников, мы сразу начинаем проверку всегда скоординированно и совместно с природоохранной прокуратурой Камчатского края.
– Скоро вам на помощь придут производственные инспекторы, которых должны будут нанимать рыбацкие предприятия для борьбы с браконьерами. Хватит ли им полномочий для решения этой задачи?
– Такие изменения в законодательстве приняты по аналогии с охотничьим хозяйством, где помимо государственных инспекторов есть производственные. Производственный охотничий инспектор является работником пользователя охотугодий. В его обязанности входит сохранение охотничьих ресурсов. В рыбном хозяйстве предусматривается тот же принцип.
На компании, которые пользуются рыболовными участками, возложат обязанность предупреждать и выявлять нарушения в области рыболовства на их участках. Речь идет как о промышленных предприятиях, так и об организаторах любительского рыболовства. Им предстоит нанимать производственных инспекторов для контроля за соблюдением законодательства. У производственных инспекторов не будет полномочий составлять административные протоколы в отношении нарушителей, но они смогут вести сбор и подготовку первичных материалов. Государственные инспекторы будут работать в связке с ними, что расширит возможности рыбоохраны, её информационную базу.
По сути, похожая схема работает уже несколько лет: ряд предприятий, за которыми закреплены рыболовные участки, по своей инициативе привлекают для охраны водоёмов общественных инспекторов. Содействие общественных инспекторов в Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах нам очень помогает. Государственные инспекторы нередко пользуются их высокопроходимой техникой и другими возможностями. Не говоря о том, что присутствие общественного инспектора на водоёме лишний раз дисциплинирует рыбаков. Благодаря изменениям в законодательстве теперь участие предприятий в рыбоохране станет их обязанностью.
– Сегодня на «Авито» можно найти огромное количество предложений услуг любительской рыбалки. Их явно больше, чем могут предложить существующие турбазы. Выдержит ли ресурс такое количество рыбаков-любителей?
– Услуги любительской рыбалки сегодня предлагают не только турбазы, но и палаточные лагеря, которые появляются в бассейнах рек во время рыболовного сезона. В первой половине июня я побывал в бассейне реки Большой. По моей информации, здесь насчитывается 14 палаточных лагерей, а в выходные на водоёме скапливается 300–400 лодок, с которых ведут лов. Мы понимаем, за какой рыбой сюда едут – за чавычей и в меньшей степени за симой. Чавыча – это ресурс, который требует очень осторожного отношения. А количество желающих её поймать становится всё больше. Этот факт не может не беспокоить.
Сегодня можно приобрести путёвку на лов чавычи по принципу поймал – отпустил. По идее, это позволит удовлетворить спрос на чавычу и сохранить её запасы. Но в большинстве случаев, скорее всего, пойманную рыбу не отпустят в реку, если рядом не будет инспектора.
– В июне начинается массовый лов не только лососей, но и мойвы. В 2015 году, который был неурожайным на лосось, мойва помогла рыбопромышленникам загрузить работой свои мощности. Сегодня мойва востребована промышленным рыболовством?
– Высокие подходы мойвы отмечались в 2014–2016 годах. В 2014-м промышленные предприятия приступили к её добыче без достаточной подготовки. В следующие два года они уже смогли организовать эффективный промысел, а потом подходы этой рыбы резко снизились. Сегодня разрешённые объёмы вылова мойвы не представляют большого интереса для промышленного рыболовства. Мойву сейчас в основном добывает население.
– Год назад вы сказали, что отечественная промышленность обеспечивает рыбоохрану практически всем необходимым, кроме одного – лодочных моторов. Японским моторам так и не найдено замены?
– На рынке появилось много китайских производителей моторов. Пока нет необходимости делать большие закупки этой техники для нашего управления. Однако с некоторыми трудностями мы всё же столкнулись. Так, наше управление планировало закупить водомётные насадки на моторы «Ямаха» и не смогло найти предложений на отечественном рынке. Хотя, насколько мне известно, некоторые наши компании уже научились производить такие насадки своими силами.
В целом наша материально-техническая база укомплектована на 90 процентов. Идёт обновление транспортной техники. Списываем устаревшие вездеходы МТЛБ и ГТТ. Замена им есть. Российские производители предлагают широкий выбор качественных вездеходов, которыми пользуются МЧС, пограничники, полиция, а также квадроциклы.
– А что с техникой у браконьеров? Тоже переходят на российское?
– В их распоряжении вся техника, которую можно приобрести на рынке, – вездеходы, квадроциклы, квадрокоптеры, спутниковая навигация, тепловизоры. Здесь они нам не уступают.
Недавно побывал в Усть-Камчатском районе. Сразу обратил внимание на частные лодки для выхода в море, оснащенные моторами по 300 лошадиных сил, которые стоят не меньше 4 млн рублей. Видимо, для таких покупок берут кредиты, чтобы потом отработать на незаконном промысле. Мы приложим все усилия, чтобы этого не допустить!
Источник: Кирилл МАРЕНИН, газета «Рыбак Камчатки»